Элигий Ставский - Домой ▪ Все только начинается ▪ Дорога вся белая
— Вот, пани, кошуля! Эй, пани! Не хочешь за деньги, я так отдам. Для такой пани свою сниму!
— Саксонский фарфор! Лучший в мире! Чашечки, тарелочки, лоханка для борща!
— Есть микроскоп! Есть микроскоп! Мальчику, чтобы не плакал.
— Французские карты с бабами! Сам бы играл, да смотреть не могу.
— Личный костюм Геббельса! К тому же его кальсоны.
— Эй, народ, продаю сам не знаю чего: круглое, блестящее, посередине стрелка.
— Пластинки для граммофона! Танги, фокстроты, веселая музыка!
— Ковер австрийский с оленями! Без оленя не продам!
— Эвона зажигалка с брильянтом! Эвона!
Липкое и тягучее перекатывалось из ряда в ряд ужасно «заграмоничное» слово — «мантель».
Толпа эта, разноцветная, как мозаика: гимнастерки, шинели, кители, пиджаки, рубашки, фуражки, пилотки, шляпы, шлемы... старушки с кружевами на плечах, инвалиды, спекулянты, мелкие и крупные, босоногие дети — вся эта ушастая, глазастая, горланящая громада людей, потная, закопченная солнцем и обсыпанная пылью, точно подхваченная каким-то беспощадным водоворотом, кружилась и кружилась, вытаптывая безумный и долгий танец надежды и мимолетного счастья.
По вертикальной стене носились мотоциклисты, очень отважные люди, которые в такой вот счастливый год могли свернуть себе шею. Рынок требует балагана.
У нас были деньги на обратный билет и еще рублей пятьсот, которые мало что стоили. Вещи не опьяняли нас, а лишь возбуждали любопытство и какую-то смутную жалость к людям. Шика ради мы могли купить поношенный мантель. Конечно, один на двоих. Во всяком случае примерить мантель мы наверняка могли. Вилька натянул, получилось смешно: человек в шерстяной торбе. Оказывается, все эти мантели были с толстых, с пузатых, с громадных. Мы посмеялись, а потом, стоя у теплой нагретой стены, слушали, как трогательно и робко поют итальянские аккордеоны: «Санта Лючия, Санта Лючия...» Очень красивые аккордеоны.
И с ужасным грохотом рядом носились мотоциклисты по отвесной стене, по гладкой, по скользкому холодному колодцу, где не за что ухватиться, где невозможно спастись, круг, еще круг, еще...
И тут же за одну минуту можно было выиграть в «три листика» безумные деньги.
— Только эта карта выигрывает. Эту поднимаешь, ничего не получаешь. Игра проста — от тыщи до ста... Замечай глазами, получай деньгами...
А благородный, весь переливающийся аккордеон задумчиво выводил:
Где ж вы, где ж вы, очи карие...
А Россия лучше всех!..
Мы стояли и слушали всю эту разнострунную музыку жизни. А потом во все глаза смотрели на лотки, полные теплых душистых пирожков. Мы тоже знали, что такое война. У нас кружилась голова при виде этих пирожков. И мы боялись, что у нас такое вот головокружение останется на всю жизнь, потому что мы были из Ленинграда. Что вам еще к этому добавить? Всего три года назад мы были пацанами в коротеньких штанишках, остроносыми и синими. Ютились за промерзшими стенами, дрожали от грохота бомб и снарядов, и по ночам нам снились такие вот пирожки. А утром пахло инеем, который рос на обоях, и матери, наверняка зная, что умрут, отдавали нам свой хлеб, чтобы мы дожили до ПОБЕДЫ, до СЧАСТЬЯ, до этих лотков с пирожками. И, не споря, не выбирая, мы с Вилькой сразу же нашли, куда нам вложить свой капитал Решили привезти домой муки. Целый мешок белой, настоящей, в которой нет ничего лишнего. Только муки! И целый мешок! Нам хотелось быть взрослыми мужчинами, которые умеют заботиться о своем доме.
— Муки, — сказал Вилька. — Мешок привезем, Генка.
Итак, еще день надо было провести во Львове, хотя нас давно уже ждали дома.
— Правильно, Виля, — сказал я. — Муки привезем.
Я представил, как вхожу в свой дом весь в муке и с мешком на спине, распахиваю дверь... Уже кормилец и уже мужчина! Вот какой я, мама! Ты думаешь, это что? Это — мука! Ну конечно! Вот, я тебе привез!..
В ту ночь мы спали в сквере на главной улице, недалеко от театра, спрятавшись за кустами. Где еще можно было спать, если майоры и полковники укладывались в гостиницах прямо на полу. Мы лежали молча, глядя перед собой, чувствуя, как приподняла нас и заворожила ночь, но еще больше — наша идея. Долго светились окна ресторана «Бристоль», и где-то рядом звучал рояль. Музыка была настоящая, серьезная, и в такую ночь — страшная. Проплыл перед глазами разрушенный Крещатик, появилась черная печь, возник усатый солдат с портсигаром.
— А здорово! — повернулся я к Вильке. — Как думаешь, а сколько дадут на пятьсот рублей?
— Сколько дадут, столько и будет. Спи давай.
Но он сам тоже не спал.
А музыка все лилась и лилась. Она открывала перед нами мир и тут же сжимала нас, мы превращались в карликов, мы становились маленькими и беспомощными, а над нами темнели круглые кроны деревьев, и что-то царапалось и шуршало в траве, и удивительным теплом веяло от земли.
Вилька заснул.
Рояль был отличный. Я почему-то представил себе, что он стоит в большом и пустом зале, где колонны н блестящий паркет, и там сидит тоненькая девушка в белом платье, и она играет, закрыв глаза. Играет и слушает эту музыку, которую как будто выдумывает сама и вот в эту минуту. И она похожа на мою маму. Я поднял голову, хотел узнать, откуда эти звуки. За листьями был виден фонарь и черный, весь уже потухший дом. И на третьем этаже одно окно открыто. Я подумал, что вот бы войти к тот зал, где колонны, и постоять рядом с девушкой. Но только, наверное, это будет смешно: она — и рядом я, рост сто пятьдесят шесть, нос помидором, брови почему-то лохматые. А может, и сама она какая-нибудь отщепенская пани из старой Польши. И что из того, что у нее красивые губы, прямой нос и длинные ресницы, черные и острые, но рояль-то получен от эксплуатации холопов. Мы с Вилькой жить среди колонн не собирались. Мы с ним, для своих лет, были уже люди: у каждого — медаль «За оборону Ленинграда» и медаль «За трудовую доблесть». «Трудовую доблесть» мы получили за сорок третий год. Были всей школой в совхозе «Лесное», пололи, копали, удобряли. И здорово работали, если учесть, что были тощие, как листы фанеры. Почти всех ребят поставили на прополку турнепса и на рассаду капусты. Человек же пять — и мы с Вилькой были среди них, самых выдержанных, волевых, дисциплинированных, — послали собирать клубнику. Я таких красивых ягод никогда не видел— крупные, сочные, шершавые на ощупь и с блестящими боками, красными, желтыми, розовыми, и даже в самую жаркую погоду холодные, а вернее — прохладные. Мы собирали их в крохотные плетеные корзинки, потом складывали полные корзинки на телегу, ровно и осторожно. Приходил директор совхоза, считал корзинки, и телега куда-то уезжала, а нам свои же ребята не верили, что мы не дотрагивались до клубники: не может быть у человека такой воли, тем более у голодного. А мы продолжали собирать клубнику, и никто не догадывался, почему, ползая по грядкам, мы все время насвистывали так, что у нас губы болели. И вот нас-то, пятерых, и наградили медалями «За трудовую доблесть».
Город постепенно затихал, а я все слушал музыку и вспоминал свою жизнь. Сперва лежать было удобно и тепло, но потом стало холодно. Вилька натянул на себя мою ногу, обнял ее покрепче и захрапел. А меня музыка совершенно вдавила в землю, и я начал думать о матери. В январе сорок второго года она упала в коридоре. А слегла она еще в конце декабря, но я не представлял, что ей так плохо. И вот восьмого января — всю блокаду я помнил день за днем — она встала, чтобы пойти в уборную. Только закрыла дверь за собой, и вдруг в коридоре грохот. Я выскочил из-под одеяла, весь — комок ужаса. В коридоре было темно, слабый свет проникал только из фрамуги. Но я все увидел. Мама лежала возле этажерки, раскинув руки, вытянув ноги. Я поднял ее и как мог дотащил до кровати. И вдруг увидел, что глаза у нее стеклянные, и спокойные, и даже безразличные, и очень большие. И первый раз в жизни мой мозг разворотила мысль, что смерть — не выдумка, что это может случиться даже с моей матерью. И ведь она отдавала мне свой хлеб... Я смотрел на нее и видел то, чего не видел еще пять минут назад: нос острый, глаза провалившиеся, и губы и щеки тоже как будто провалившиеся, а вся она серо-зеленая. «Не хорони меня, — сказала она, глядя куда-то вверх, и сказала очень спокойно, как будто выбросила меня из своей жизни. — Не надо тратить сил. Завернешь в простыню, вытащишь во двор и там оставишь...» Я ревел, и целовал ее, и обнимал, и умолял...
...Музыки больше не было, но окно на третьем этаже все еще было открыто. Я тоже кое-как заснул, коченея от холода, прижимаясь к Вильке. Приснился рынок, шум голосов, аккордеоны и та самая старушка в чистеньком белом платочке, которая на плохом русском языке сказала нам, что в самом Львове мука дорогая, надо отъехать немного и купить где-нибудь на селе, там дешевле. Во сне старушка торговала мукой. Она сыпала ее на весы, потом брала в ладони, подбрасывала вверх н смеялась как сумасшедшая. А я собирал муку вместе с землей и сыпал в мешок, чтобы отвезти маме.

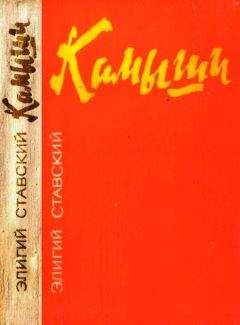

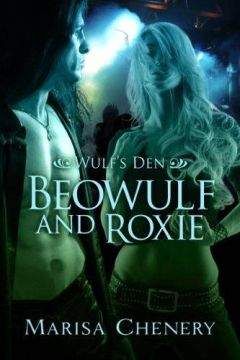
![Светлана Чистякова - Наследники Падших Книга вторая Трудно признать [CИ]](/uploads/posts/books/3156/3156.jpg)